/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F2c4dd6c0a6458cedd32359b972cc1f61.jpg)
Российская информационная машина: управление мозгами от Суркова до Мединского. Часть 1
Советская пропаганда обогатилась опытом западного пиара, создав новый тип инструментария. Над ним в России работали два специалиста, имевшие в прошлом активный ПР-опыт. Это В. Сурков и В. Мединский. Поэтому лозунг типа “вышли мы все из пиара” очень хорошо описывает суть произошедшего, когда внешние параметры воздействия уводят от содержательных. При этом очень сложно привнести изменения, ничего не меняя. А именно таков, видимо, заказ власти. В результате происходит все большее погружение в прошлое в отличие от движения в будущее.
Мы можем построить такую таблицу направленности пропагандистских усилий, добавив туда и сегодняшний третий этап:
| Этап | Создатели | Цели |
| I | В. Сурков | создание будущих смыслов (например, суверенная демократия) |
| II | В. Мединский | защита старых смыслов (например, 28 панфиловцев и под) |
| III | телепропагандисты (В. Соловьев и др.) | борьба с текущими “врагами” (например, с А. Навальным) |
То есть эта система естественным образом выстроилась по своей ориентации на разные временные периоды.
Сегодня мы попали в век пропаганды с человеческим лицом, которая как бы стоит между жесткой сталинской пропагандой и сегодняшним телесериалом. Она как мягкая сила Дж. Ная должна привлекать, а не заставлять, поскольку у нее уже нет такого ресурса как аресты недовольных, который активно использовался в сталинское время, а травма от него хранится в головах по сегодняшний день.
Пропаганда с человеческим лицом носит долговременный характер по своему воздействию, поскольку направлена на изменение мозгов. Сложность состоит только в том, что в сталинское время вес видели вокруг одно и то же, тем самым повышая эффективность той пропаганды. Сегодня все видят вокруг разное и часто то, что не укладывается рассказы пропагандистов.
Советский стиль управления массовым сознанием любил и жаловал цензуру. Это метод негативного отбора, негативной селекции, когда населению закрывают информационные и виртуальные потоки, способные бросить тень на властные слова и дела.
Цензура и враги народа – из одного лукошка. Они видят то, что нельзя увидеть, а увидев – нельзя повторить вслух. Население погружается в розовый мир вокруг. Вблизи, лично у тебя, он может быть и плох, но в целом, особенно там, где тебя нет, он идеален. Владение цензурой – это счастье для государства, никто не может его упрекнуть в чем-то плохом, оно уже по определению все делает хорошо и правильно.
И. Курилла разъясняет: “Слово «цензура» имеет и точное значение, и расширенное. В точном смысле цензурой может заниматься только государство. Либо предварительная цензура, которая запрещает публикации, как это было в советское время. Либо военная цензура, которая отслеживает информацию в переписке. Либо цензура постфактум, которая наказывает за уже опубликованное мнение. Во всех этих случаях цензурой называлось только то, что делает государство, у которого есть ресурсы для отслеживания и для наказания. В этом смысле США, наверное, единственная страна в мире, где никогда не было цензуры (кроме военной во Вторую мировую). Там с самого начала существования была «первая поправка», защищающая свободу слова от государственных запретов. Однако если мы говорим о цензуре как об ограничениях на высказывания в целом, без привязки к государству, то мы видим, что есть ещё два вида ограничения права на свободу слова. Один из них – мощное общественное мнение. Другой – корпоративная цензура, когда корпорации лишают пользователей возможностей высказываться на своих платформах. Это то, что сделали сейчас Twitter и другие” [1].
Оруэлл давно отметил способность тоталитаризма менять единственно верные истины одну на другую, не особо замечая противоречий. Вчера было правильным одно, сегодня совершенно противоположное, но оба являются единственно верными.
Оруэлл писал: “Отлаженное вранье, ставшее привычным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой ни говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение негласная легенда о том, что, хотя сейчас Советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т. п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнародует. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так, потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что прошлое невозможно изменить и что точность исторического знания — нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать. Тоталитарное государство — в сущности, теократия, и его правящей касте, чтобы сохранить свое положение, следует выглядеть непогрешимой. А поскольку в действительности не бывает людей непогрешимых, то нередко возникает необходимость перекраивать прошлое, чтобы доказать, что той или иной ошибки не было или что те или иные воображаемые победы имели место на самом деле. Опять же всякий значительный поворот в политике сопровождается соответствующим изменением в учении и переоценками видных исторических деятелей. Такое случается повсюду, но в обществе, где на каждом данном этапе разрешено только одно-единственное мнение, это почти неизбежно оборачивается прямой фальсификацией. Тоталитаризм на практике требует непрерывного переписывания прошлого и в конечном счете, вероятно, потребует отказа от веры в самую возможность существования объективной истины. Наши собственные сторонники тоталитаризма склонны, как правило, доказывать, что раз уж абсолютная истина недостижима, то большой обман ничуть не хуже малого” [2].
Странно и парадоксально, но всю идеологическую модель России В. Путина выстраивали два бывших пиарщика – В. Сурков и В. Мединский. Полученный результат можно описать как микс советской и антисоветской моделей. Отсюда создаются такие идеологические кентавры как: Сталин в мозгах есть, но на официальном уровне его как бы и нет. Но он приходит из массовой культуры, поскольку, к примеру, он может появиться в фильме о войне, но будет запрещен к прокату в случае сопутствующей отрицательности, как в случае “Смерти Сталина”. Государство как куратор мозгов граждан все время занято разрешениями и запретами тех или иных идей.
В. Суковатая видит также как “пробивается” в сегодняшний день и дореволюционная ментальность: “обращение к дореволюционному и досоветскому прошлому обусловлено отсутствием позитивных образцов в настоящем и надеждой установить связь между позитивными ценностями российского дворянства и постсоветского общества. В частности, «ностальгическая» маскулинность воспроизводит потребность общества после слома советской империи в поиске идеала в жизни «дворянских гнезд», «больших семейств», разоренных репрессиями 1930-х. Яркими примерами «ностальгической» маскулинности могут служить главные герои фильмов «Сибирский цирюльник» (1998), «Утомленные солнцем» (1994), «Адмиралъ» (2008), в которых мужчины репрезентируют «идеальные» качества русского офицера-дворянина, ностальгически выраженные в стихах Марины Цветаевой: «очаровательные франты минувших лет»” [3].
Получается, что идеология, которая как бы отсутствует, на самом деле жива и вытаскивает из истории то, что может быть использовано как доказательство силы и мощи, и прячет то, что будет демонстрировать слабости. Или идеология реинтерпретирует многие фигуры под этим углом зрения, закрывая глаза на отрицательные моменты. Так произошло с фигурой Александра Невского, который совмещает в себя противоположные ипостаси: отважного воина и сборщика дани для Орды. Понятно, что в идеологию отбирается то, что ей соответствует и прячется все то, что противоречит.
В советское время аксиомой было то, что идеология предопределяет правильные поступки, хотя точнее, наверное, сказать, что идеология задает идентичность, а идентичность порождает поступки. Когда идеология отрабатывала ситуацию “если завтра война”, она создавала нужных под нее типажи героев.
Пропаганда как бы отправляет нас жить в мир завтрашнего дня, потому что то, о чем она так активно рассказывает, чаще всего отсутствует сегодня. Благодаря пропаганде оно есть в информационном и виртуальном пространствах, но реально отсутствует в пространстве физическом. Например, все вражеские ярлыки, которыми оперируют пропаганда, есть только на экране телевизора, но не в реальности. Зато из них, как из конструктора Лего, легко складывать картинку нужного мира.
Причем во внутренней политике тексты могут существовать отдельно от их “спонсоров”, во внешней политике тексты начинают функционировать вместе с людьми, подталкивающим их, облегчающие их вхождение в чужое информационное пространство. Можно назвать это инструментарием проникновения, который продумывается вместе с текстом, зачастую даже раньше самого текста.
Мы прошли через несколько смен государственных режимов. И только Советский Союз системно и сознательно менял прошлую модель мира. Правда, он имел для этого достаточное количество времени, когда в конце концов и внизу, и наверху оказались люди, выросшие в рамках работающей советской идеологической машины.
Действительно, никакой программы смены ментальности на постсоветском пространстве типа той, которая была в Германии, не было. Все думали, что плохое умрет, а хорошее прорастет. Но прорастает и то, и другое.
Поэтому понятна критика фильмов, которым патронировал В. Мединский, будучи министром культуры, чье министерство распределяет деньги на кино, поскольку они несут в себе прошлый вариант идеологии как более стройный и крепкий для разговора власти с массовым сознанием. Массовое сознание ждет от власти четких сигналов, но, как правило, власть это делает редко, перекладывая все разговоры с населением на телепропагандистов. Они выступают в роли религиозных проповедников или партийных агитаторов.
Вот один из таких фильмов “Танки”, о котором глава гильдии кинокритиков В. Матизен рассказывает так: “Владимир Мединский похвалил им же инициированную картину, снятую при поддержке министерства и под эгидой РВИО, сказав, что ее сценарий «привлекает внимание достоверностью сюжета, в котором «ничего не выдумано», и подчеркнув, что это «очень правильное кино». И в самом деле, «Танки» – идеальный для него пропагандистский опус в духе «Танкистов» 1939 года, готовивших советских людей к легкой короткой и победной войне. В иных одобрительных отзывах отмечалось, что «Танки» – хороший фильм для молодого поколения, «очень простой и патриотичный», что герои «показаны «достойными и сильными людьми, которые сплочены общей идеей во благо страны и народа любой ценой пригнать танки», и вспоминалась песня тех лет: «пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за врагом следим». Температура отрицательных откликов намного выше. Одни возмущались тем, что реальная история перегона танков, во время которого Кошкин заболел воспалением легких и вскоре умер, превращена в фарс, что главным героем фильма является не конструктор, а сопровождающий его команду чекист, благодаря которому танки пробиваются к Москве и триумфально въезжают на Красную площадь, другие называли фильм «аттракционом невиданной глупости», издевательски спрашивали, что курили авторы, выдумывая сюжет фильма, и какой дурак из Минкульта выдал на него деньги. Словом, как констатировал Антон Долин, на выходе получился саморазоблачительный автопортрет Министерства, озабоченного отмыванием Сталина и героизацией НКВД” [4].
О нашумевшем (негативно) фильме “Крымский мост” кинокритик В. Матизен говорит так: “Что же касается «Крымского моста», то положительные отзывы на него на редкость бессодержательны: «закаты, рассветы на побережье, любовь, юмор», а отрицательные так же резки, как и приведенные выше: «пошлость и подхалимство», «мизогиния, расизм, шовинизм, фальшивый патриотизм», «образчик кумовства и бездарности», «культ личности вождей и Сталина» (один незримо стоит за великой мостостройкой, а другого неустанно поминает добрым словом герой фильма, крымский татарин, одобряющий депортацию собственной семьи). При этом противоположные взгляды на присоединение Крыма нередко приводят к одинаковому неприятию «Крымского моста» – конъюнктура претит независимо от политической ориентации. И, наконец, часть зрителей резонно возмутилась тем, что «навязчиво эротическому фильму, в котором содержатся откровенные сексуальные сцены», а «сам Крымский мост — не что иное, как визуальная метафора к долгожданному геополитическому совокуплению России и Крыма», присвоен возрастной ценз «12+». Что, между прочим, происходит регулярно – министерские надсмотрщики занижают проходной возраст для «своих» фильмов и завышают для «чужих»” (там же).
В принципе государственная система не может производить фильмы, которые ей будут противоречить, и это правда. Но пропаганда тоже не может быть настолько прямолинейной, чтобы зрители начинали от нее отворачиваться. В высших своих проявлениях пропаганда становится искусством, настоящим искусством.
Даже Геббельс говорил о фильме С. Эйзенштейна “Броненосец Потемкин” перед своими собственными пропагандистами такие слова: “Это чудесный фильм, равных которому нет. Причина – в его силе убеждения. Всякий, у кого нет твердых политических взглядов, может обратиться в большевика после просмотра этого фильма. Он предельно ясно показывает, что искусство может быть тенденциозным и успешно распространять даже худшие из идей, если это делается с выдающимся мастерством” [5].
О периоде “любви” между Германией и СССР известно такое: “В обеих столицах пришли к выводу, что идеологические противоречия двух режимов следует приглушить и взять курс на культурное сближение. В Германии сняли с проката “Броненосец “Севастополь”. В СССР исчез из кинотеатров “Александр Невский” Эйзенштейна, в котором русское войско громит Тевтонский орден. Перестали показывать и все перечисленные выше антинацистские картины. На двусторонних переговорах то и дело заходит речь о том, что неплохо было бы подписать соглашение о культурных обменах” (там же).
А при приближении к войне два диктатора все еще пытались обмануть друг друга: “7 февраля 1940 года в Берлинской государственной опере состоялась премьера – “Жизнь за царя”. Опера Михаила Глинки после революции не ставилась у себя на родине 22 года. С ее монархическим сюжетом не знали, что делать. Пробовали перенести действие в обстоятельства советско-польской войны 1920 года. Наконец, новое либретто написал поэт Сергей Городецкий: теперь поляки ищут не юного царя Михаила Федоровича, укрывшегося в монастыре, а дорогу на Москву. Ликующий хор в финале поет вместо “Славься, славься, наш русский царь” – “Славься, славься, ты Русь моя”. В этой версии опера была поставлена на сцене Большого театр” (там же).
А Эйзенштейн поставил Валькирию в Большом театре. Ему позвонил с таким предложением главный дирижер Большого театра Самуил Самосуд: “Звонок этот имел место 30 декабря, спустя пять дней после обмена теплыми посланиями между Гитлером и Сталиным по случаю 60-летия советского вождя. Вряд ли стоит сомневаться в том, что идея поставить “Валькирию” исходила из самых высоких инстанций. Вагнера в СССР перестали ставить в 30-е годы. Советскому правящему ареопагу он представлялся непонятным мистиком, к тому же было известно, что Вагнера обожает Гитлер, считая его истинным выразителем арийского духа. Но именно это и стало решающим фактором в создавшейся политической обстановке”
Фильм или спектакль – это политический жест, даже когда речь идет о произведениях далеких веков. Там функционирует не только то, что сказали автор, но и то, что думает на этот момент зрители. А они просто физически не могут думать о современности.
Где властью создана в головах граждан более вымышленная страна, то есть оторванная пропагандой от реальности, тем страшнее ее возвращение в реальность. Например, рассказ о реформах и успехах в медицине на постсоветском пространстве и разразившаяся на сегодня пандемия. Они вступают в противоречие друг с другом, и пропаганде в этом случае сложно победить.
Все это говорит о том, что госпропаганда что-то строит, что по ее мнению должно стать “скрепами” сегодняшнего дня, поскольку переходит сюда из дня вчерашнего или даже позавчерашнего. Пропаганда никогда не действует случайно. За этими решениями стоят анализы социологов и психологов, которые подсказывают власти ключевые точки истории, которые хотя и фальшивы, поскольку за ними нет правды, но важны для общей картины, позитивной для власти, поэтому нельзя допустить их исчезновения из социальной памяти.
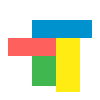
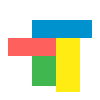
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F952072fc-5e66-483c-922a-bfc4e7c25591.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F3e7a72c836cbd26d0ca8bb7e9065b1b6.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fb7b1d916c5673efb9276d0d4b83ab270.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fb5c85c7aff30749fd8352c41f64a3810.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fc37aeb8c18b715bdc3bcd15d1e58aa7a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2F1f264ee32ab64b4245d2f6eab9e2246d.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fdb871f2a56fe93408d05a1376e16224a.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F9919040bdc07a0d34aeb5c7ee127468e.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F33%2F07131bb8d8b086b5c127eab49a6f2e9e.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F4%2F9d75506bf42d9ab7471cc832ca031eb3.jpg)