/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fc2c74aa134ec6c8841f630f029f8c58d.jpg)
Дмитрий Быков: "Моя симпатия к СССР – это антипатия к нынешней России"
Дмитрий Быков о том, что секс ему интереснее, чем история, как жена пожалела киевского слона, зачем ФСБ пыталась его убить и почему между национализмом и нацизмом он не видит особой разницы
В прошлом году очередному быковскому визиту помешала пандемия. Зато в нынешнем писатель пробудет в Украине целый месяц. Компанию ему составляет не только молодая жена Катя, но и восьмимесячный сын Шервуд. Программа обширная: Быков выступает в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье. Аудитория у него здесь огромная, поклонников великое множество. Когда идешь с Быковым по улице, кажется, что в лицо его узнает каждый второй. Некоторые здороваются.
Кто он: Российский поэт, прозаик, журналист, публицист, критик, радио- и телеведущий, преподаватель литературы, общественный деятель, оппозиционер
Почему он: После двухлетнего перерыва Быков снова приехал в Украину, где выступает с концертами и лекциями. А еще недавно у него вышел новый роман — "Истребитель"
Быкова любят многие, но тех, кто его ненавидит, тоже предостаточно. Первая среди ненавидящих — нынешняя российская власть. Недавнее расследование Bellingcat и The Insider не оставило никаких сомнений в том, что в апреле 2019-го сотрудники ФСБ отравили Быкова тем же самым способом, которым отравили Алексея Навального в августе 2020-го. Впрочем, на эту тему Быков говорит без особой охоты. Начать беседу он предложил с совсем других, куда более приятных вещей.
Намедни ты обмолвился, что готов рассказать мне всю правду про секс.
— Один из моих любимых анекдотов: пожилая пара смотрит порнуху, мужу надоело, а жена просит: "Давай подождем до конца, может, они все-таки поженятся". Так вот, тот интерес, с которым мы смотрим и читаем про любовь, для меня совершенно непостижим. В принципе, мы знаем, чем все кончится, диапазон финалов невелик: в конце концов, все умерли. Но почему-то именно любовные коллизии нас живейшим образом занимают. То ли мы хотим проверить, так ли все у нас. То ли действительно сложное сочетание любви и ненависти, брезгливости и восхищения, которые складываются в семейной жизни, остается для нас привлекательным коктейлем. История обнаружила свою нищету, отсутствие прогресса и все такое, а любовь все никак не обнаружит. Этот аттрактант продолжает всех занимать.
"Прослойка интеллигенции в СССР была шире, чем сейчас. Поэтому у Советского Союза были пути развития, а у сегодняшней России я их не вижу"
Потому следующий роман я буду писать о любви, правда, очень нестандартной — о любви двух ипостасей одной личности друг к другу. Точнее, о любви двух субличностей в процессе multiple disorder, расстройства множественной личности.
Любовь к самому себе — самое надежное чувство.
— Как говорил Андрей Кнышев, "любовь к себе — роман на всю жизнь". Если угодно, книга будет об этом. Я вообще считаю, что концепция личности как монолита в наше время терпит крах.
Это сейчас было про секс?
— Про причины вечного к нему интереса. Пастернак утверждал, что нет ничего более возвышенного, чем движения, приводящие к деторождению, но, честно говоря, мне они кажутся довольно-таки примитивными. Тем не менее они вечно нам интересны. Более того, это как бы модель познания в целом. Так что последней темой, которая будет меня волновать, останется любовь и вот эти движения.
Ладно, если не о сексе, давай о любви. Катя, если не ошибаюсь, твоя третья жена. Сколько лет вы уже вместе?
— Пять.
Один Бегбедер говорил, что любовь живет три года.
— Может, у Бегбедера она так и живет, но здесь нет никаких универсальных правил. Например, одни считают, что надо непременно жениться на женщине других занятий — чтобы было интересно. У меня есть такой опыт, со своей первой женой я до сих пор очень дружу, хотя в ее диссертации понимал только слова "отсюда следует". Сейчас она уже доктор наук, знаменитый вирусолог. А другие жены были, как и я, филологи. Так что единого правила нет. Одно правило гласит, что ни в коем случае нельзя жить с ровесницей, а другое — что надо только с ровесницей, и оба они могут оказаться верными.
Важно "Я обманул многих женщин!" Януш Вишневский о жене, любовнице и нелюбви к хэппи-эндамЯ все пытаюсь вычислить, в чем состоит Катькина привлекательность для меня, благодаря которой она заняла все мои валентности. Думаю, что в наибольшей степени это быстрота реакции, активная жизненная позиция и колоссальная доброта, которую я никогда раньше не встречал. Мы вчера были в киевском зоопарке, показывали Шервуду слона. Слон там одинокий, без самки — то ли денег на нее нет, то ли другие какие проблемы. И вот Катька пошла в дирекцию разбираться, почему слон выглядит несчастным. Нельзя ли как-то ему помочь, что-то пожертвовать.
Отличается ли отцовство в пятьдесят с лишним от отцовства в тридцать?
— Абсолютно ничем. И вообще, возраст — вопрос личного выбора. Я точно знаю, что меня определяют не цифры и не физиология. Сейчас я во многих отношениях моложе, чем в 25. Тогда я не мог себе позволить заниматься чем хочу, а сейчас могу. В 25 человек гораздо больше зависит от мнения окружающих, от профессиональных обязательств и т. д. Я теперь более свободен в выборе стратегии поведения.
Говорят, при въезде в Украину пограничники продержали тебя с семьей три часа, и вышел скандал.
— Не было никакого скандала. Я не хочу подражать Бродскому, который говорил: "Что там я — вот старик, арестованный за мешок картошки…" Но там еще стояла сотня индусов и ребенок с ДЦП, и их держали точно так же, как меня. Главное, я не мог понять, чем они там все время занимаются. Они туда-сюда ходили, что-то выясняли и только имитировали деятельность, хотя пробить человека по базе можно за пару минут. Может, все это повышает престижность въезда в Украину, не знаю.
"Пастернак утверждал, что нет ничего более возвышенного, чем движения, приводящие к деторождению, но, честно говоря, мне они кажутся довольно-таки примитивными"
Я об этом давно уже не думаю. Если концентрироваться на таких вещах, моя жизнь в России превратится в непрерывную рефлексию по поводу непрерывных унижений. Недавно, чтобы отдать справку о том, что моя мать выписана из квартиры по причине смерти, — просто отдать справку нотариусу! — нам пришлось ждать час, пока нотариус соизволит ее взять. А подшил он ее за полминуты.
Мне кажется, бюрократия — не самая страшная беда, которая происходит в России, в частности с тобой. По-моему, ты избегаешь говорить о своем отравлении, сперва даже его отрицал.
— Нет, не так. Я говорил, что это, безусловно, отравление, но не утверждал, что меня кто-то отравил. Да, я предпочитаю не фиксироваться на этой теме, хотя, уверяю тебя, там я увидел много интересного, и это относится к числу довольно приятных воспоминаний. Как большинство людей, побывавших там или около там, я успокоился насчет многих личных вопросов. Объяснить это одними только веществами невозможно, я видел много того, чего не могли бы мне внушить никакие вещества.
Меня все-таки интересует не потусторонний мир, а этот. Ты согласен с выводами Bellingcat?
— А как я могу быть с ними не согласен? Не стану же я утверждать, что те люди, которые со мной летали, на самом деле со мной не летали! Мне очень приятно, что есть это расследование, что тех, кто тогда писал, мол, Быков опился и обожрался, ткнули носом в правду.
В соцсетях недоумевают: кому нужен этот Быков, зачем его было травить?
— Я думаю, они тупо идут по списку Координационного совета российской оппозиции. Практически все члены КС были либо отравлены, либо выдавлены за рубеж. Хотя некоторые выдавленные за рубеж разоблачают российские власти и там, и тогда их, как Владимира Кара-Мурзу, травят по прибытии в Россию.
Вынужден ли ты из-за всего этого прибегать к самоцензуре?
— Не то чтобы вынужден, но, как сказал Набоков в "Приглашении на казнь", "всадник не отвечает за дрожь коня". Я неконтролируемо — возможно, в силу осторожности, личной трусости, нежелания оставлять сиротой малолетнего ребенка — ограничиваю себя в некоторых высказываниях. Еще мне не хочется подставляться, устраивать лишнюю драку. Например, мне очень любопытна связь между победой в Великой Отечественной войне и кампанией против космополитов, но я стараюсь говорить об этом крайне аккуратно, чтобы победа в этом контексте не упоминалась вообще.
Что тебя так привлекает в Украине? Ты ведь приезжаешь сюда практически каждый год.
— Прежде всего я люблю Одессу. Связи мои с ней не исчерпываются литературой, у этого города особая аура, там есть Черное море, там хорошо работается, у меня там много друзей. Во-вторых, в Украине живет огромная часть моих читателей. Сегодня в супермаркете школьник, слушатель моих лекций, неожиданно на меня напрыгнул, это было безумно приятно. И хотя Катя утверждает, что платит всем этим людям, я знаю, что столько денег у нее нет.
Ты уже осознал, что, несмотря на свою любовь к Украине, для некоторой части украинского общества ты безусловный враг?
— Никаких иллюзий я на эту тему не питаю. Для правоконсервативных израильтян я еще больший враг, а уж какой я враг для россиян подобной ориентации, страшно даже подумать. Меня не любят никакие националисты, и с этим ничего не поделать. Чтобы их утешить, скажу, что и сам с годами нахожу в национализме все меньше хорошего. Принципиальной разницы между национализмом и нацизмом я не обнаруживаю.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Ffd443bacbd0f8aeb4e7798b8f56fafca)
Конечно, национализм — палка о двух концах, он несет определенные преференции: патриотизм, солидаризм — все что угодно. Но в какой-то момент все хорошее начинает переходить в свою противоположность, в частности в поиски врага. Дело в том, что, вспоминая о своей национальности, немедленно вспоминаешь и о чужой, а это большая мина под общество. Когда в 2003 году мы делали газету "Консерватор", я считал, что националисты бывают умными. Сейчас я понимаю, что нет, не бывают. Это болезнь.
Как ты относишься к принципу коллективной вины?
— Коллективная вина имеет место там, где есть национальный монолит. Не может быть коллективной вины у такой пестрой страны, как нынешняя Россия. Любую власть и любую агрессию в ней поддерживают процентов 10–15. Большинство абсолютно инертно. Фашизация предполагает массовую ионизацию; большая часть общества должна быть уверена, что Украина — источник мирового зла и т. д. В России такого консенсуса не наблюдается.
"Возраст — вопрос личного выбора. Меня определяют не цифры и не физиология. Сейчас я во многих отношениях моложе, чем в 25"
Я верю в коллективную вину немцев в 1940-е, и то был значительный процент людей, являвшихся оправданием нации, как, например, Томас Манн. Думаю, и сейчас многие россияне, в частности я, много делают для того, чтобы Россия ассоциировалась не только с путинизмом. Поэтому в целом я против всего коллективного, в том числе коллективной вины. Подобные взгляды — следствие посттравматического синдрома.
Тебе задавали вопрос: "Чей Крым?"
— Мне таких вопросов здесь почему-то не задают — наверное, знают, что услышат. Как вообще можно отвечать на этот вопрос? Сказать: "Крым наш" — глупо, сказать: "Крым ваш" — льстиво, сказать: "Крым мой", как говорит Мария Васильевна Розанова, — это не ответ. Это вопрос в духе "перестали ли вы уже пить коньяк по утрам?", ответа на него быть не может. Подобные вопросы задают не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы понять, за что можно травить отвечающего.
Твой последний роман "Истребитель" одни сочли очередной клеветой на советский строй, а другие — очередным его оправданием.
— Значит, хороший роман получился. В свое время была пародия на "Орфографию", там мой герой Ять шел по улице, в него слева кидали огрызки, справа кидали огрызки, и Ять благодаря этому понимал, что идет в правильном направлении.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Ffd443bacbd0f8aeb4e7798b8f56fafca)
В глазах условных либералов твой главный порок — симпатия к СССР. Он тебе действительно нравится?
— Ну какая симпатия может быть к СССР? Это антипатия к нынешней России. Да, я говорю, что тогда во многих отношениях было лучше, что существовали некие правила и консенсусы, что общество было гораздо более резистентно к нацизму и к любого рода пропаганде, что телевизор априори считался рупором лжи. Сейчас ситуация гораздо хуже. На протяжении 1990-х в России уничтожалась интеллигенция, я тогда писал об этом в "Огоньке", в статье "Геноцид". Еще у меня была статья "Прощай, шпана преображенская", которую никто не напечатал. Там я говорил о том, что интеллигенция в России была преображенной шпаной — в третьем поколении это те, кто к комиссарам уже никакого отношения не имел.
"Когда в 2003 году мы делали газету "Консерватор", я считал, что националисты бывают умными. Сейчас я понимаю, что нет, не бывают. Это болезнь"
Это были неплохие люди, я среди них вырос — я ведь и сам интеллигент во втором поколении. Я воспитывался на кухне у матери, а бывали на этой кухне очень разные люди. Были православные диссиденты — журнал Московской Патриархии я впервые увидел в семилетнем возрасте. Были те, кто выпускал "Хронику текущих событий", самиздат в доме не переводился. Эта прослойка была шире, чем сейчас, поэтому у Советского Союза были пути развития. А у сегодняшней России я их не вижу.
Кто из русских писателей, на твой взгляд, лучше всего изобразил нынешнюю Россию?
— Пока никто, потому что существует табу на обсуждение некоторых вопросов. Но если брать именно состояние, а не осмысление, то, наверное, Алексей Сальников в романе "Петровы в гриппе". То, что Петровы сейчас в гриппе и даже в ковиде, совершенно очевидно. Изобразил он — не осмыслил пока никто. Лично я этим заниматься не буду — незачем осмысливать давно предсказанный тупик. В принципе, я все описал в "ЖД", еще в 2005 году. Прошло 16 лет — и все сбылось: роман оказался не антиутопией, а в некотором смысле ползучим реализмом.
Представь себя пророком. Какой ты видишь Россию лет через двадцать?
— Я вижу примерно семидесятые годы XIX века, то есть массовое разочарование в очередных реформах, бурный подъем молодежного движения, идущего по пути отнюдь не мирных преобразований, огромное количество разочарованной интеллигенции и страстное ожидание перемен столь радикальных, что оттепель покажется детской игрой. Условно говоря, это разочарование в очередном косметическом ремонте. Есть другой вариант, которому я дал бы процентов двадцать. Это кратковременная диктатура радикальных националистов, этакий протофашизм или даже фашизм, который довольно быстро падет, но успеет нанести стране такие травмы, от которых она уже не оправится.
А что будет с Украиной?
— Либо это будет типичная восточноевропейская страна в статусе примерно Польши, тоже в вечной борьбе и неустроенности, в постоянном колебании между ностальгией и прогрессом, либо ее не будет. Конечно, я бы очень хотел сказать, что это будет лидер Европы и все такое, но что для этого должно произойти с Европой, боюсь даже думать.
Что тебе в себе приходится преодолевать?
— Мнительность. Ипохондрию. Мне даны — я надеюсь, Богом — все нравственные ориентиры, я знаю, что хорошо, что плохо. При этом сомневаюсь и боюсь, подозреваю в себе нравственные несовершенства и неизлечимые болезни. Вспоминается анекдот про альпиниста, который, уцепившись за кустик, висит над пропастью и взывает к Богу. Тот ему с небес: "Я тут, с тобой, отпускай руки!" Альпинист на это: "Эй, там кто-нибудь еще есть?" В общем, надо бы отпустить руки, но я пока не готов.
Важно История с географией. Пять важных романов, которые стоит прочесть, чтобы лучше понять ЕвропуКак же ты справляешься со страхом смерти?
— Никакой смерти нет, я это знал и до отравления. Достаточно глубокая рефлексия свидетельствует о том, что наше "я" исчезнуть не может, нам потом покажут, что там с ним происходит. Я там буду, пожалуй, книгой на полке: взяли — заговорил, остальное время в полусне. Что касается страха болезни, то это, как и возраст, вопрос личного выбора. Если ты занят чем-то очень важным, Господь тебе даст все необходимое. У меня не написаны три очень важных книги. Пока я их не напишу, со мной ничего не случится.
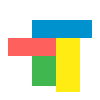
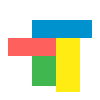
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F147e2c41-3fd7-4d9f-9857-4d05778ec630.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F791e6973-45b0-4c39-84b0-dac1665127e9.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F091dea33-65dd-4e3c-96a5-316748c72c16.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2F1e3007056b394537eecf01e68772b494)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fc85fe635a181c4c077a754c04042116b.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fc20b9c06c6958414a8c1625a401dfeaa.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2F1b250d4753638117a3d46f0bf5f37b4e)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F4f21ef7157aaab80156e36740e72db95.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F627ae7f13c4834d4c44e3b734440aae4.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2F4ce8a3ab7a728ef24f1238a0ecca06e7.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F28%2Fbc4a13cc8c1b00a4e195d0664f1de781)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F5d05a0a67fdb76cefd56b5eddcda7434.jpg)