Двенадцать лет назад, когда архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Мария Бергольо был избран Папой, мир оживился. Это было ново — Папа не-европеец, Папа с глобального Юга. Но, главное, казалось, что это будет человек, который подхватит упавшее знамя любимого миром папы Войтылы. Иоанн Павел II, неутомимый Папа-путешественник, открывал католический мир.
Папа-аргентинец, как ожидалось, должен был сделать следующий шаг: дать этой церкви, казавшейся лоскутным одеялом, накинутым на глобус, ощущение настоящего единства — единства равных и разных. Универсальность, положенная церкви по природе, по закону небесному и догматам земным.
Частично эти ожидания сбылись. Это, например, касается реформы управления Католической церковью. О «реформе Курии» говорят, кажется, столько же, сколько существует курия. Но именно папе Бергольо удалось продвинуть дело дальше разговоров.
Однако долгожданная реформа управления, переход от «римоцентричной» модели к «соборной» — это в большей мере внутрицерковный, почти технический вопрос. Папа Римский для мира — всегда нечто большее, чем просто «начальник всех католиков». Каким бы скептичными мы ни были, мы все равно не выпускаем из поля зрения фигуру в белом. Это одна из немногих (и их все меньше) фигур на планете, чьи слова что-то значат для жителей любой части света. Универсальная фигура.
От папы Франциска ожидали, что он станет проповедником универсализма. Даст убедительный пример, что глобализация — не единственный возможный и даже не самый правильный путь преодоления конфликтов и разделений. Кто, как не он, — этот подчеркнуто не-римский Папа?
Папе Бергольо действительно удалось сместить фокус с Глобального Севера (или в нашей перспективе — Запада) как законодателя, администратора, полицейского, диктующего миру правила, на Глобальный Юг, который платит по чужим счетам, — бедностью, климатическими изменениями, войнами. Папа хотел стать адвокатом той части мира, «чей голос не слышен», чьи интересы попраны. И он старался, видит Бог.
Но «не ассоциироваться с Западом», дистанцироваться от «богатых» еще не означает «стать универсальным». Отказавшись быть «голосом Рима», папа Бергольо не стал «голосом мира». Он остался Папой из Латинской Америки — и его происхождение наложило отпечаток на весь его понтификат. Как к добру, так и к худу. Папа Франциск не сумел наладить отношения с США. Несмотря на солидное присутствие там Католической церкви, папа Бергольо не сумел найти общий язык ни с католиком Байденом, ни с католиком Вэнсом. Крупный дипломатический успех папы Франциска на американском направлении — вывод Кубы из изоляции — был достигнут в интересах страдающего народа Кубы. В объятиях Папы с Фиделем Кастро было больше тепла, чем в его интонациях, адресованных любому из американских президентов.
Точно так же «инородно» папа Франциск выглядел из Восточной Европы. Которой он не понимал — и не слишком стремился понять. Предпочитал двигаться в кильватере все тех же латиноамериканских геополитических взглядов и традиционной ватиканской дипломатии, нацеленной (последние лет пятьсот) на Москву. Можно было бы предположить, что папе Бергольо тут скорее мешал, чем помогал его аргентинский опыт. Левые идеологии, диктатуры, постколониальность — все как будто «совсем как у нас». Но в то же время совершенно иначе. Нет ничего хуже «похожего» — оно вызывает иллюзию понимания.
Нет ничего удивительного в том, что в украинском «послесловии» к понтификату Франциска превалирует обида. Есть за что. Даже учитывая то, что наши обиды на папу Бергольо говоря о нас не меньше, чем о нем. Как бы Папа ни дистанцировался от Рима, в своем отношении к Украине он оставался вполне в духе куриального Ostpolitik. Если папу Бергольо называли «строителем мостов», то Украина была для него разве что одним из пролетов моста, перекинутого от галереи собора Святого Петра к порогу Кремля. Об этом можно было судить не только по словам Папы, но по делам. По Гаванской декларации. Или по тому, что назначив рекордное количество кардиналов со всего мира, папа Бергольо подозрительно аккуратно «обошел» Украину: среди кардиналов оказался только один представитель Украинской греко-католической церкви, и тот не из Украины, а из Австралии.
По крайней мере на нашем клочке карты мира «универсализм» папы Бергольо имел четкие границы: он заканчивался там же, где и русский либерализм — на украинском вопросе. Или, во всяком случае, на «униатском».
Справедливости ради стоит все-таки сказать, что вклад папы Бергольо в нашу войну в настоящее время оценить по достоинству непросто. Ватиканская дипломатия придерживается принципа «держать двери открытыми». Даже в тех случаях, когда кажется, что это уже не двери — это врата адовы. Чтобы через эти двери — хоть через узкую щель, хоть через замочную скважину — можно было вести переговоры. Пока Папа вел благостные речи о «великой культуре» и «великом народе», о «мужестве белого флага» и «мире-любой-ценой», Ватикан через свои «приоткрытые двери» вел переговоры о передаче украинских пленных и возвращении на родину украденных украинских детей. Все, что было и не было сделано, можно будет оценить, когда откроются соответствующие архивы — а в Ватикане это дело небыстрое. Но одно можно сказать уже сейчас: помощь папы Франциска в нашей войне точно не сводилась к двум мавикам, ставшим украинской эпитафией на могильном камне понтифика. Эпитафией, полной хейта.
Нам всегда было важнее то, что сказано, чем то, что сделано. А папа Франциск умел сказать что-нибудь такое, что не только мы — весь мир замирал с открытым ртом. А потом с сочувствием наблюдал, как глава папской пресс-службы изворачивается на тему «Папа совсем не то имел в виду». При этом лицо самого понтифика оставалось все таким же безмятежным.
Он прославился — и, возможно, войдет в историю, — как «неоднозначный Папа». Папа сеет двусмысленности — таков общий глас его критиков. Там, где еще недавно все было четко и понятно, где «естественное» и «безобразное» было разделено жирной линией, где белое и черное не тонули в оттенках серого, папа Франциск, будто играючи, напускал тумана. Все становилось неоднозначно. Не только «агрессор и жертва». Но и благословение (но не венчание) однополых пар. Признание права быть священниками для геев. Вернуть в церковь (т. е. допускать к причастию) людей, состоящих во втором браке. Рукополагать женщин — если не в священников, то хотя бы в диаконис.
Но вот что интересно: все это только на словах. Речи Папы всегда были радикальнее его поступков. Даже если они подкреплялись делами, это были крошечные спорадические изменения, не способные разрушить мир или оставить трещины на монолите церковной традиции. У папы Франциска никогда не было намерения что-либо разрушать. Напротив, он казался человеком очень деликатным — слишком деликатным. Человеком, который сомневается. И который изо всех сил старается поделиться своими сомнениями с другими. Особенно с теми, кто слишком уверен.
Папа Франциск, конечно, был «неоднозначным». Потому что стремился таким быть. Будучи главой церкви, он мог реформировать церковный институт. Будучи Папой Римским, непогрешимым в вопросах веры, он мог даже внести коррективы в догмат.
Но папа Франциск не был революционером. Он был апостолом открытости. Проповедником возможного. То, что он нес в эфир, было в большей мере темами для размышлений, чем директивами. Он делился мыслями, а не оглашал политическую программу. Возможно, со свойственной ему скромностью, папа Франциск ощущал себя всего лишь эпизодом в Божественном промысле. И старался найти способ изменить мир, не разрушая его.
Фигура папы Бергольо выглядит немного нелепо — что никогда не смущало его самого, — но и немного трагически. Его стремление сеять сомнения, чтобы преодолеть ложную однозначность, совершенно не совпало с историческим моментом. Если бы мир был в более стабильном состоянии. Если бы в нем не было такого колоссального запроса на жесткие границы и четкие определения. Запроса на простые и прямолинейные ответы. Точки над І. Требования непременно «выбирать сторону» и «называть зло по имени»…
Но в этом мире не бывает идеального момента. И не бывает идеального человека — даже если он весь в белом восседает на престоле Святого Петра. Папа Франциск был подчеркнуто не-идеальным.
Называя Папу «неоднозначным», а его речи «двусмысленными», мы тем самым упрекаем его. Но для самого папы Франциска, вероятнее всего, это был не упрек. Это был его стиль. И его цель. Нет однозначности в любви. Любовь полна двусмысленности. Но есть ли другой способ объединить «разных и равных»? Есть ли другой рецепт универсализма, которого мы ждали от папы Франциска, которого мы ждем от церкви и от мира в целом?
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2F9a86ac6b6ba08128a932d1b5d9ae7e46)
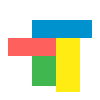
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2F1d69cc645874176837fb105f36bedd64.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2F1b213cef02a4495985f46495a6f204c4.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2F0d8a79abeca32dc60af712295e9f4890.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F63%2F0ea19a426669775578cd592deda4733f.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2F5d59ece627305b750a17bdb6835a0d82.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fd1b5e30e512ddd67efbf06045faa82fa.jpg)