/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F9b3a776acff2c0e7d39ac6fea6af6f40)
«Запад хочет снова упаковать нас в советский package» — Оксана Романюк
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F259343e2953ac80480c11fe1941607f6.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2Fc23f4602c8429c9039b003f9f1e4b974.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2F259343e2953ac80480c11fe1941607f6.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F81%2Fc23f4602c8429c9039b003f9f1e4b974.png)
Ксения Туркова: Оксана, когда вы узнали о том, что вы выдвинули на эту премию вместе с Алексеем Венедиктовым, стало ли это для вас сюрпризом?
Оксана Романюк: Не ожидала. Я узнала об этом в мае, и, если честно, тогда было вообще не до премии. Я прочла, удивилась и написала им письмо: мол, спасибо, что вы меня выдвинули, но я категорически отказываюсь в этом участвовать. Организаторы пробовали меня убедить, велась долгая переписка, в ходе которой я поняла, что в нашем понимании друг друга есть какая-то незаполненная лакуна, которая связана с опытом и бэкграундом. Мы сейчас переживаем опыт насилия, опыт защиты нашей идентичности, и для нас невозможно то, что предлагает нам Западная Европа – протянуть руку врагу, как мне предлагали. Я понимаю, что их желание было совершенно искренним. Они просто не понимают всей глубины этой ситуации, у них нет такого соседа у границ.
К.Т. А как они сами это объясняли?
О.Р. Знаете, в правозащитном движении есть такое разделение на миротворцев и тех, кто за справедливость. Вот здесь была чисто миротворческая позиция: мне говорили, что я должна протянуть руку врагу, буквально такими словами. А для меня это недопустимо — и не только из-за ситуации, в которой мы оказались. Для того, чтобы «протягивать руку», должен состояться определенный комплекс событий и мероприятий. Победа, суды, наказание, покаяние — как это было с Германией. У нас на этой войне 42 журналиста погибли, наши коллеги… Буквально за неделю до войны мы с Александром Маховым обсуждали тренинги для журналистов. За два дня до того, как россияне убили Макса Левина, он мне звонил по телефону, у него были идеи по поводу работы журналистов на передовой...
Вторая причина отказа — это сама личность Венедиктова. Есть россияне, которые достойны уважения, например, группа «Мемориал», результат их работы, безусловно, ценен. Но Венедиктов сделал ряд (противоречивых) высказываний по Украине, говорил, что это просто территория… По-моему, он легитимизировал ситуацию с уничтожением свободы слова в России. Мне кажется, это было бы неправильно. И это было бы предательством в определенном смысле по отношению к коллегам.
К.Т. Вы упомянули «Мемориал». Недавно была похожая ситуация с Нобелевской премией мира, когда награду получили российские, украинские и белорусские правозащитники. И тоже тогда были вопросы — для чего так совмещать и, пусть и не специально, повторять российский нарратив о так называемом «триедином народе». Почему, как вы считаете, Запад до сих пор воспринимает страны постсоветского пространства как один, как сказали бы по-английски, package?
О.Р. Потому что они боятся перемен. Любые изменения — это опасно, и для Запада легче нас упаковывать в этот package, чем ждать чего-то неизвестного от Украины. Украина вдруг стала игроком, который имеет свою точку зрения, который не хочет упаковываться уже в этот package, а хочет упаковываться в package с восточноевропейскими странами-членами Евросоюза. У Украины есть свое видение, свои какие-то претензии. Это неудобно. Проще все свести к статусу-кво, свести нас снова в советскую парадигму. Когда-то, до войны, мне говорили некоторые европейские дипломаты: мол, зачем вы вообще чего-то здесь строите, какую-то идентичность, если все равно вам не вырваться из-под гнета России? Все равно на вас это бремя будет висеть, и она вас не выпустит, у вас нет шансов. Мне кажется, что здесь именно эта причина — страх перемен.
И еще один нюанс: мы пережили, я бы сказала, ряд таких экзистенциальных кризисов — когда распался Советский Союз, когда были 90-е годы, революции — и так далее, и далее. Мы постоянно эти изменения переживали, восстанавливались и шли дальше. Но у них (на Западе) не было таких сильных кризисов, и поэтому, возможно, они не готовы с ними сталкиваться.
К.Т. А что с этим можно сделать?
О.Р. Есть несколько, наверное, вариантов. Один — громко о себе заявлять, что мы и делаем. С другой стороны, наша агрессивная позиция ясна, но она заставляет определенную целевую аудиторию замыкаться в себе, превращаться в такого броненосца, закукливаться и никуда не двигаться, не развиваться. Поэтому, параллельно с публичным озвучиванием нашей позиции, важно также продолжать диалог и объяснять эту позицию, приводить факты. И третье — собственно, нам нужно делать свое дело, как-то двигаться вперед, потому что другого выхода нет просто, это вопрос выживания. Не сдаваться.
Вы писали, что предстоит много работы, что развеять русскую имперскую магию. А о какой именно работе идет речь и как на самом деле эту магию можно развеять?
О.Р. Здесь тоже нужно действовать на скольких уровнях. Первый уровень, я думаю, юридический. Я все же думаю, что должен быть создан специальный трибунал по России, и я хочу увидеть на этом трибунале непосредственных пропагандистов, тех людей, которые отдавали приказы, которые создали эту совершенно ужасную, агрессивную пропаганду. Кстати, мы больше не используем только термин «пропаганда» — это и геноцидная риторика, которая абсолютно перекликается с руандийским кейсом, это призывы к нападениям на гражданскую инфраструктуру и так далее.
Второе — это, конечно, работа с так называемыми русскими либералами. Недавняя ситуация с «Дождем» показала (по крайней мере, для нас) некоторую инфантильность и неготовность брать на себя ответственность. У нас очень много удивления вся эта история вызвала. И мне кажется, что к этому кластеру, наверное, также должны быть требования по соблюдению этических стандартов. Недопустимо употреблять такую терминологию, как Белоруссия или на Украине. Это очень маленькие примеры, я не знаю, как это лучше сформулировать. Должно быть больше критического отношения к самим себе, самоанализа, самооценки. Надо понять, что вы не можете быть над схваткой, вы не можете сказать: это просто война Путина, а мы над схваткой. Вы не над схваткой, вы все же являетесь частью всей этой истории.
Третья группа – это россияне, с которыми, я считаю, у нас есть потенциал к диалогу. На самом деле у меня было много знакомых россиян до февраля 24 февраля, мы общались. И после 24 февраля из этого круга знакомых только два человека мне написали в приват, и я знаю, что им очень стыдно за эту ситуацию. Они описывают происходящее в категориях, которые нам понятны. Они говорят, что им стыдно публично выступать, потому что они даже не знают, что говорить. Когда же выходят россияне, берут какие-нибудь премии и рассказывают исключительно о себе — это просто вызывает очень много вопросов. Поэтому, если говорить об изменениях, я думаю, что изменений я хотела бы ожидать от этой третьей группы россиян, осознающих ответственность и ужасные последствия пропаганды. Мне жаль, что их голоса очень слабо слышны и они практически не видны на фоне очень распиаренных известных организаций, получающих финансирование.
К.Т. Вы сказали о том, что сейчас нельзя быть над схваткой. Сейчас действительно много говорят о том, что журналисты во время войны не могут быть безэмоциональными, нейтральными, что нужно четко понимать, на какой ты стороне, потому что война — она черно-белая, в ней нет оттенков. Но есть и такой дискурс, что после войны будет сложно вернуться к объективной журналистике. Какие, по вашему мнению, главные вызовы война поставила перед украинскими медиа?
О.Р. Очень много вызовов. Если говорить об эмоциональности, то тут надо просто стараться придерживаться профессиональных стандартов. Ели у нас возникают ситуации, связанные с какими-то эмоциональными историями, мы очень много консультируемся, советуемся с коллегами на этот счет. Сейчас есть вызовы нескольких уровней. Первый — это, конечно, вызов, связанный с контентом. 80-90% контента сейчас – это война. Сейчас просто очень сложно даже писать на какую-нибудь другую тематику. Хотя я вижу, что онлайн-медиа активно пишут, продолжают вскрывать коррупцию, публикуют критические материалы о представителях власти. Меня смущает продолжение нашего марафона теленовостей: я считаю, что он себя уже исчерпал, с ним нужно попрощаться.
Вызов, связанный с безопасностью. Безусловно, каждая редакция сегодня уже научилась, как в этом плане выкручиваться, но еще год назад я не думала, что я буду уметь оперативно накладывать турникеты.
Вызов, связанный с финансами: разрушились традиционные связи, инфраструктура, очень много медиа сейчас потеряли источники финансирования, несколько сотен медиа закрылись. Но каждый кризис все же — это какое-то перерождение, и сейчас у нас многие медиа ищут финансовые решения, которые связаны с увеличением ответственности, с активизацией диалога со своей аудиторией, с предоставлением информации именно о том, что ей интересно. Это уже не просто медиа «в космосе», которое финансировалось местным олигархом, — это медиа, у которого есть определенная, конкретная ниша, конкретная аудитория. Я считаю, что это плюс.
Вызовы, связанные с повседневной жизнью. Мы проводили опрос, и 97% процентов журналистов признались, что находятся в постоянном стрессе — связанном либо с их собственной жизнью, либо с семьей, либо с работой. И еще один нюанс: мы все постоянно бьемся за что-то — в разных конфигурациях, нам все не нравится, мы постоянно какие-то заявления делаем. Даже война это не остановила. Как говорится, эти украинцы, они никак не успокоятся!
Возможно, это то, чем мы отличаемся от всех консервативных стран, в которых не дай Бог, чтобы этот маятник качнулся. Возможно, это признак молодой страны, которая находится в поиске своей модели. Мне кажется, что это признак развития.
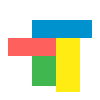
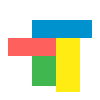
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F952072fc-5e66-483c-922a-bfc4e7c25591.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2Fc95979d956319ada75b890dbf25eae48.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Faedd26b19fcaaa8614ed786054871e12.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fda162c47fe93d899de545c3405f978a3.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F2cd7961db12ea5e635fd64368fb9624e.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fe82f9685fa4a49d2c17dcf5449edf219.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F84072ca699c63cf25185e07d4c7b5908.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F3f45d684bcfb2b65a09216bf5dc8b0f7.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F422%2F732866efc2c09f99cb253db128bfe379)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F867630d96dea4f95e4bce4e150482a36.jpg)