На фото, которое иллюстрирует работу паллиативного отделения одного из частных учреждений, в общем помещении лежат около десятка парней на функциональных койках. Это одно из многих фото в соцсети на странице учреждения. Между койками нет ни ширм, ни перегородок. На переднем плане — молодой парень в одной только голубой футболке. Обнаженный лобок и мочевой катетер не прикрыты ни простыней, ни символическим «смайликом». И словно насмешка над всем этим — щемящий текст о паллиативе и достоинстве. И целая куча комментариев со сложенными ладошками и благодарностью за «заботу о наших мальчиках».
Понимает ли учреждение, что все это не имеет отношения к каким-либо нормам — как моральным, так и сугубо медицинским? Не сомневаюсь. Понимают ли родственники пациентов, что все это должно выглядеть как-то иначе? Возможно. Почему тогда все участники процесса притворяются, что все так и должно быть? Потому что в определенной степени все эти военные (а учреждение берет к себе именно военных) являются заложниками обстоятельств.
…Игорь (имя изменено) получил тяжелое ранение на фронте. Его максимально стабилизировали, но восстановить все функции невозможно. Не только в стране, а нигде в мире. Он не может двигаться самостоятельно, его кормят через стому, никто не знает, понимает ли он, что происходит. Но молодое здоровое сердце будет работать годами, дышит он самостоятельно, поэтому жить в больнице не может и, согласно законодательству, должен быть выписан под надзор мобильной паллиативной бригады по месту проживания.
Вот только место жительства у него в небольшом городке, из которого активно идет эвакуация. Возвращаться туда даже здоровому человеку — безумие. Снимать жилье на условно спокойной территории — деньги, которые кто-то должен заработать. А «кто-то» — это только мама, потому что больше никого и нет. Возможно, она бы и работала на трех роботах одновременно, чтобы это жилье обеспечить. Но должна быть рядом с сыном. Или работать не на трех или на десяти работах, чтобы оплатить еще и сиделку.
Что остается в такой ситуации? Правильно. Стационарное паллиативное отделение. Которых, если верить дашбордам НСЗУ, у нас достаточно. К сожалению, то, что прекрасно выглядит на бумаге и в графиках, «на земле» превращается в сложный квест. Ни одно паллиативное отделение в государственном учреждении не будет держать пациента дольше трех недель — это вопрос денег, заложенных в пакете. Поэтому через три недели нужно искать следующее отделение, а потом — еще одно. Некоторые пациенты так кочуют годами — из отделения в отделение, из одного учреждения в другое, иногда даже между разными областями. Если посчастливилось «ухватить» свободное место.
Альтернатива — негосударственные учреждения. Или коммерческие, или благотворительные. Здесь сроки зависят исключительно от способности платить деньги, или от принятия правил благотворителей.
Именно оттуда и берутся фото и видео людей в самых тяжелых состояниях. Потому что именно «зрелищностью» легче всего расплатиться за гранты и донаты, которые, в свою очередь, сделают бесплатной эту помощь для пациента.
«Это наш Юрик» (имя изменено) — заботливо объясняет голос за кадром. Юрик только сегодня попал в частное учреждение из государственной больницы. Понимает ли Юрик, что его снимают, — неизвестно. Камера «рассматривает» его лицо и шрамы на голове, проходится по телу, демонстрирует нам памперс и руки, сведенные контрактурами. «Помогите нам вылечить Юрика. Номер карточки *******». Юрик больше себе не принадлежит. Его страдание и его диагноз становятся своеобразным товаром, за который можно получить деньги на его же содержание в этом учреждении. Давал ли он на это согласие? Судя по состоянию — нет.
Кстати, в законе за разглашение диагноза пациента предусмотрена уголовная ответственность. Но слышали вы когда-либо о том, что кто-то пытался судиться из-за этого? Нет, конечно. Не слышали. Потому что иск может подать только сам пациент. Или его официальный опекун, если такой есть. Но в условиях отсутствия альтернативы это не в их интересах. Более того, многие будут до неба благодарны за возможность бесплатного ухода и не «будут качать права», поскольку выхода нет. И чем тяжелее состояние, тем выше ставки и больше готовность к каким-либо компромиссам. Будь то фото со страданиями на лице в соцсетях или помещение на десяток человек, в котором одновременно пользуются утками и принимают пищу на глазах друг у друга.
Если пациент или его семья платит за это «живые» деньги — да, можно требовать соблюдения всех условий, прописанных в стандартах. В частности и одно- двухместные палаты, медицинское питание, реабилитационные мероприятия, адекватное обезболивание, психологическую помощь. Но здесь мы снова возвращаемся к тому, что контролировать все это возможно исключительно в тех учреждениях, которые законтрактованы с НСЗУ по пакету «стационарная паллиативная помощь». В тех, где эта помощь предоставляется на коммерческой основе или за гранты, или средствами благотворителей, условный контроль есть исключительно от тех, кто эти деньги дал. И контроль в виде фото и видео несчастных пациентов не только полностью устраивает благотворителей, но и мотивирует вкладывать деньги и в дальнейшем. Такой некий замкнутый круг обмена страданий на деньги.
…Мария (имя изменено) уже месяц не может получить обезболивание в одном из многочисленных пансионатов в области. Родственники не готовы обеспечить ей уход в домашних условиях, но готовы платить за коммерческое учреждение. На сайте учреждения написано о паллиативной помощи, но в реальности это просто хорошо обустроенные почти гостиничные номера и медсестры, которые меняют памперсы и ставят капельницы согласно назначениям врача. У врача, консультирующего пациентов в этом учреждении, нет лицензии на опиоидные анальгетики. И у учреждения ее нет. Единственное, что они могут посоветовать, — обратиться за рецептом к семейному врачу. Семейный врач, который пациента в глаза не видел, рецепт дать отказывается. Мария кричит. Потому что ничего, кроме крика, ей не остается. Она тоже больше себе не принадлежит. Ее жизнью руководят родственники и пансионат.
— А где у нас учреждение, где есть военный паллиатив? — спрашивает юная жена парня, которому не повезло попасть в мясорубку, перемоловшую не только его тело, но и его психику. Справиться с ним дома невозможно. Она бы и рада отдать ему саму себя до последней капли, но их ребенку еще нет года. И разорваться между ними она не сможет.
В последнее время у нас активно поднимается тема военного паллиатива. Она слышала что-то в прессе и активно ищет специалистов именно в этом направлении. Ей кажется, что для военных существуют какие-то отдельные учреждения и отдельные протоколы. Но на самом деле никакого отдельного «военного» паллиатива не существует.
Просто сейчас в Минвет готовится пилотный проект по оказанию длительной помощи тяжелым раненым. И, возможно, именно он станет определенным выходом для военных. Потому что дополнительный источник финансирования поможет увеличить сроки пребывания в стационаре и расширить спектр помощи за его пределами. И, безусловно, это то, что необходимо делать. Потому что самое меньшее, что может сделать государство для человека, который отстаивал его существование, — не оставить наедине с болью. Дать возможность не торговать своим достоинством за право получить эту помощь и положить весь ресурс семьи на возможность хоть как-то улучшить качество его жизни. Будет ли этот проект удачным и постоянным — покажет время.
Что делать с гражданскими — вопрос открытый. Потому что ситуация с ними ухудшается пропорционально ухудшению общего состояния страны. Хватит ли на них ресурса — сказать сложно. Как ни цинично это звучит, но когда речь идет о выживании страны в целом, отдельные люди, не имеющие шансов на выздоровление, отходят на второй план. И если выбирать, например, куда нужно купить генератор — на фронт, чтобы обеспечить связь для подразделения, или человеку, который живет дома на аппарате ИВЛ и никогда уже не принесет этой стране пользу, то с точки зрения целесообразности — выбор очевидный. Но исключительно с точки зрения целесообразности…
Мы живем в тяжелые времена. Когда сохранить в себе человечность и эмпатию становится с каждым днем сложнее. Когда градус ужасов в публичном пространстве настолько зашкаливает, что у нас атрофируется способность на них реагировать. А вместе с ней атрофируется способность различать, что можно делать, а что — нет. Где те границы, отделяющие нас от врага с его цинизмом и отношением к людям, как к расходному материалу. Наверное, держать эти границы хотя бы для себя лично — одна из самых важных задач. По крайней мере для меня.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2F4cbfd82cc38c3b068f5235d36c0cf2b2)
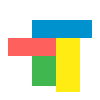
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Faf5e6397c4f0bfa1ec737d91851ecd88.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Ff2bba4ba1bf27e11608c87b260376433.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F0b36d7bb2ed5cf308b6a73290c43fb13.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fc86d2d7891cc9d27469f712a7338c7fb.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F35%2F7278780948acfa4d1a68eb9833ac6458.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F53%2Fe905b963d0be9c3482f245faa9a4dce8.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F5abcdb2dbb754d34465554fa4273d6fe.jpg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F10%2F367f3bbe2a25e495dfd3fa238e013898)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F33%2F62086f68d6185125554c74fedbce9f04.jpg)