/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F30%2Fa3c1871ae997f55c5e432a8bd2029b85.jpg)
«Надо лечить лучше и спасать больше, чем это делают россияне». Очень откровенный разговор с врачом-хирургом с передовой
«Надо лечить лучше и спасать больше, чем это делают россияне». Очень откровенный разговор с врачом-хирургом с передовой
На этот текст обидятся все. И нам бы этого очень не хотелось. На публикацию интервью с анонимным врачом-хирургом, спасающим жизни у линии столкновения, редакция ZN.UA идет не для того, чтобы обидеть чиновников или волонтеров. Но для того, чтобы внести свою лепту в улучшение системы, которая призвана спасать жизни.
Анонимно — не потому что компетентный и заслуженный врач боится ответственности. Но потому что, находясь на воинской службе, наш собеседник сейчас вынужден согласовывать все свои заявления. Он понимает, что военная цензура выхолостит его субъективный крик об объективных проблемах. Вычеркнет не военные тайны, а критику системы. То, о чем молчать нельзя. Об ошибках, которые совершает государство. О преступных действиях и бездействии, которые приводят к потерям жизней там, где их можно было спасти. А это — самое главное в сфере медицины.
Точно так же нельзя молчать и об ошибках знаковых боевых медиков, врачей, активистов и волонтеров, совершенно заслуженно ставших любимцами публики. Но теперь эта публика защищает их от осознания и исправления совершенных ими ошибок, поиска путей совершенствования. Тогда как работа каждого из нас, на всех участках, должна быть выполнена лучше, чем у россиян. Потому что ее цена — тысячи спасенных жизней. А когда речь идет о тысячах человеческих жизней, не должно быть места обидам, тщеславию и хайпу. Для победы нужна слаженная команда.
Это интервью с одним врачом. Но под ним подпишутся десятки таких же, как он.
— Где вы сейчас, если можно об этом сказать, или по крайней мере так, как об этом можно сказать?
— Я на южном востоке. Нахожусь ближе к раненому, чем военный госпиталь, скажем так.
— Сколько вы уже на большой войне?
— В том или ином качестве я приобщен к работе определенных подразделений с 2014 года. Как инструктор, на гражданских должностях. На большой войне — с 24 февраля 2022-го.
— Я понимаю, что хирурга, который и в мирной жизни ежедневно видит кровь, в отличие от других людей, трудно поразить. И спрашивать о том, что поразило, видимо, немного моветон. И все же?
— Не то, чтобы поразило, но в какой-то момент я заметил и сказал об этом вслух: никогда в жизни ни при каких обстоятельствах ни в одной гражданской больнице я не видел так много раненых. Когда речь идет о сотнях в день.
Как хирург ты привык и сразу сортируешь — кто нуждается в твоем внимании, а кто без него обойдется. Ты не чувствителен к этому сейчас, потому что защищен какими-то механизмами выживания. Но понимаешь, что когда-то, уже после войны, к тебе придет страшное осознание: это — сотня искалеченных людей, жизней, личных историй каждый день. Конечно, по сравнению с пехотой, врачам грех жаловаться, что они тяжело работают. Но, думаю, такие условия работы на психику влияют.
И вторая эмоция, которой надо поделиться. Когда работаешь относительно недалеко от линии столкновения, твои условные пациенты — совсем рядом: тот лесок, то село, где стоят наши. За ними — уже враг. Ему до тебя — минут десять, если ребята пропустят. И каждый вечер, ложась спать, ты понимаешь, что завтра проснешься только благодаря тому, что в этом леске кто-то стоит насмерть и не пускает врага. Это небывалое ощущение зависимости от другого. И жуткого страха на самом деле.
Поэтому когда этих бойцов привозят к тебе раненными, ты встречаешь их совсем не так, как в мирное время. В киевской больнице тебе привозят пациента, с которым надо работать. Это — работа, морока, хлопоты, бессонница, усталость. Здесь тебе привозят родного человека, благодаря которому ты остался жив. Ты смотришь на его раны и понимаешь: этот человек принял пули и обломки, летевшие и на тебя тоже. И ему там было неизмеримо тяжелее, чем тебе, но боец выполнил свою работу качественно.
Это меня очень мотивирует. Именно такими глазами я сейчас смотрю на военных. И это принципиальное отличие моей врачебной работы до 2014 года и сейчас.
— К сожалению, довозят не всех. Значительное количество раненых гибнет на пути до получения квалифицированной медпомощи. Чаще всего — из-за большой кровопотери. О чем здесь больше: о недостаточной подготовке боевых медиков или бойцов, оказавшихся рядом с таким раненым? О плохом медицинском обеспечении? Или о нехватке эвакуационного транспорта, который, когда он уничтожен огнем противника, не регистрируют как выведенный из строя до официального расследования, которое может продолжаться до полугода?
— Все не так. Тыл существует в немного обезображенном медиа и социальными сетями мире. Картинка относительно военной медицины отображается крайне неадекватно. Реальность совершенно другая. Видимо, естественно искать простые ответы и объяснение сложных вещей. Но здесь так не работает.
Хочу привести прежде всего три философских тезиса, являющихся общими правилами.
Во-первых, усталость не является мерилом работы. И если кто-то очень устает, это может происходить потому, что он делает глупую работу и ресурс распределяется неправильно. Во-вторых, потери часто не являются пропорциональными. Мы теряем раненых, которых не должны были бы потерять ни при каких обстоятельствах.
Когда боец получает ранения, несовместимые с жизнью, его уже никто не спасет. Таких раненых много. Они гибнут или сразу после травмы, или очень быстро после нее. И это не зависит от качества помощи. Есть анатомические повреждения, всегда заканчивающиеся смертью.
Но есть так называемая предупреждающая смерть, которой могло бы не быть, если бы были проведены все адекватные ситуации мероприятия. Лозунг тактической медицины — нулевой процент предупреждающей летальности. К сожалению, многие раненые гибнут из-за несовершенства помощи, некомпетентности и отсутствия даже базовых знаний, ошибок, довольно часто — элементарных. Такого не должно быть. И это плохо.
В-третьих. У нас идет война, в которой мы защищаем себя, свое право на существование, свободу, наши ценности. И довольно часто из-за правильности этой борьбы то, как мы это делаем, медиа автоматически воспринимают так же правильным. Это — большая ошибка.
— Например?
— Когда офис президента к отбору командующего КМС (Командование медицинских сил. — Авт.) приобщает музыканта, волонтера, активиста и замечательного человека, получаем лицо, которое по своим профессиональным и видимым качествам не соответствует должности. Ориентированность на личность, а не на работу системы, институционную состоятельность — совершенно ошибочный подход.
Видим народного депутата, которая ни с того ни с сего ездит на линию столкновения и общается с военными. Выглядит красиво, но абсолютно бессодержательно, и это вредит.
Видим, что известные волонтеры, незаурядные личности могут вполне искренне ошибаться, манипулировать и искажать факты, вместе с тем придавая своей картинке действительности намного большую огласку, чем это могут сделать их оппоненты.
Видим, как известный добровольческий госпиталь изо всех сил пытается еще больше раскрутить свое имя, хотя на самом деле не является лучше других.
Видим, как квалифицированный детский анестезиолог начинает позиционировать себя как отец тактической медицины и вести курсы. Он — замечательный врач, но к тактической медицине имеет касательное отношение, рассказывает бессмыслицы и в итоге вредит.
Видим, как замечательная юридическая организация, созданная хорошим человеком, подает предложение в КМС, и ее анализ относительно военной медицины абсолютно нерелевантный, а выводы — ошибочны.
Если говорить о медицине, то наше искреннее желание спасти каждого вовсе не означает, что мы делаем это правильно. Работа одухотворенного боевого медика или врача, который, покинув гражданскую больницу, пошел добровольцем на фронт, сидит на стабпункте очень уставший, показывает носилки в крови, является супермедийным, может быть некомпетентным и, несмотря на самые искренние намерения, приводить к потерям раненых или увечий там, где этого не должно было бы быть. Такое случается часто.
Но попытайтесь об этом сказать — и в обществе поднимут крик.
Обществу очень важно осознать, что вклад в борьбу, защиту, реформы автоматически не делает все дальнейшие действия и высказывания определенного лица лучшими или значимыми. Так же и доступ к СМИ, медийность, ведение соцсетей и популярность той или иной заметки не делают его самым правильным и содержательным. Это и меня касается.
Поэтому, когда говорим о потерях на фронте с точки зрения медицины, надо четко понимать, о чем именно идет речь.
— Конечно, я имею в виду: почему гибнут раненые, которые должны были бы выжить?
— Здесь есть еще такая штука. Если спросить начальников госпиталей о том, какие у них потери, они скажут правду: в мобильных госпиталях, расположенных вдоль линии столкновения, выживают 99% раненых. Беда в том, что они этой цифре искренне радуются, не понимая, о чем она на самом деле. А она — о том, что по разным причинам в госпиталь довозят не тяжелых раненых, а тех, кто и так бы жил.
Средняя цифра выживания в госпитале после операций, без понимания, кто был прооперирован, насколько тяжелыми были травмы, ни о чем не говорит. Это просто средняя температура по больнице.
А вот если возьмем, условно, изолированное ранение конечности, например, все ранения в ногу в течение месяца, и посчитаем всех, кого довезли до госпиталя, а кто погиб на поле боя; проанализируем причины гибели: своевременно ли была оказана помощь, была ли она адекватной на поле боя, — тогда увидим реальную картину оказания медпомощи в случае ранения в ногу. И, проанализировав причины гибели, сделаем выводы: научены ли бойцы оказывать эту первую помощь под огнем на поле боя, и есть ли чем им это делать. Далее проанализируем: кто из раненых погиб в процессе транспортировки, кому не была восстановлена кровопотеря, кого неправильно лечили в стабилизационном пункте или в госпитале. Только так, анализируя и погибших, и тех, кто выжил после ранения в определенный анатомический участок, сможем говорить о том, насколько правильно мы работаем.
А просто подавать цифру, что в госпиталях выживают 99%, — это манипуляция. И, к большому стыду, командующая КМС имела неосторожность об этом говорить даже на международных встречах.
— Поговорим детальнее о каждой из причин. Почему раненые, которые должны были бы выжить, гибнут? Что у нас с подготовкой бойцов? Мы же вроде бы идем к стандартам НАТО?
— Мы туда не идем и никогда не шли. Это — словно игра в карточный домик. На ком домик рухнет, тот и проиграл. То же и с реформами. Должностные лица, желающие их проводить, пытаются вытянуть такую карту (реформу) и так, чтобы все осталось как было.
Вот чем занимался Минсоц под чьим-либо руководством все время, в течение которого мы говорим о МСЭК или ВВК? Уровень его реформы — замена в нормативных документах слова «инвалид» на словосочетание «лицо с инвалидностью». Но на ликвидацию взяток и откатов в системе это никак не влияет. Туда никто не хочет лезть, потому что пострадает много «уважаемых» людей.
Что касается военной медицины, первая организация, которую нужно ликвидировать, а людей, касательных к ней, люстрировать, — это Военно-медицинская академия. Функция этого искусственно созданного конструкта непонятна. В нем нет ничего ни военного, ни медицинского, ни академического. Люди, сидящие там на бюджетных должностях, некомпетентны. Показатель их эффективности — издание методичек и учебников, которые никто не читает.
До войны военные врачи не были лучше других, потому что их никто как следует не учил. Они всегда работали в госпиталях нескольких городов. Парадокс заключается в том, что военные хирурги никогда в жизни не лечили травм, и это никому не мешало. В Киеве с ножевыми и огнестрельными ранениями, после тяжелых ДТП всегда везли в 17-ю больницу и БСМП. В то же время в военном госпитале лечили грыжи и холециститы, проводили плановые удаления вен военнослужащим и членам их семей.
И только начиная с 2014 года там стали появляться врачи с опытом. Но в целом военная медицина у нас всегда плелась в конце. Теперь, в войну, эти люди без адекватных знаний, львиная доля — без знания английского языка, начинают заново учиться хирургии и повторять все ошибки, с которых мировая хирургия уже сделала выводы.
Ради справедливости надо сказать, что сейчас уже есть несколько вполне достойных мест. Есть очень достойные врачи, отделения, госпитали, организовавшие работу на хорошем уровне.
— Можем их назвать?
— Прежде всего Харьковский госпиталь. Есть хорошие ростки военной медицины в Запорожье. Отдельно встречаются настоящие профи по линии столкновения. У некоторых я бы сам с радостью поучился. Но в целом мы еще очень далеки от практик, которые есть в современных госпиталях и больницах мира.
— Что с Днепром?
— Хотелось бы лучше. Грустно, но факт.
Ключевая вещь, которая должна была бы быть сейчас, — это отношение к раненому, как я уже говорил. Оно многое меняет во время оказания помощи.
В Мечникова говорят: «Через нас проходят тысячи». И если кто-то замечает, что они ошибаются, сразу звучит очень опасный аргумент: «А сколько вы таких прооперировали?».
Да, действительно, Мечникова пропустила через себя больше всего раненых в целом. И нам не хочется верить, что их всех лечили некачественно. Что лучше мог быть сервис, отношение к людям. Что качество хирургической, медпомощи там среднее. Что в современном мире медицинские решения принимают и оперативные вмешательства выполняют иначе.
Они завалены, у них постоянный поток пациентов, к ним — куча внимания, и попробуй их покритиковать. В ответ: «А кто ты такой?».
Этот аргумент звучит даже во время общения с иностранными коллегами, которые хватаются за голову, когда к ним на лечение попадают пациенты с Украины. К сожалению, в случае с госпиталем огромное количество раненых не приводит к эволюции способов лечения. От усовершенствования их защищает огромное количество людей, не позволяя критику.
— Стабпункт и госпиталь — более отдаленные этапы. Многие раненые гибнут из-за неправильного оказания помощи уже на первичном этапе. Это зависит от боевых медиков или бойцов, оказавшихся рядом. Умеют ли они, например, накладывать турникет? Если да, то где этому научились? И что для этого сделало государство?
— Вообще мы очень мало учимся. Это касается и хирургов, и боевых медиков. Курс бойца-спасателя — что-то среднее между обычным бойцом и боевым медиком — это 40 часов обучения тактической медицине. Я уверен, что на сегодняшний день их не проходит никто.
— А у нас государство в целом признает боевых медиков? Обязует их проходить обучение?
— Формально обучение есть. Кто-то кого-то как-то готовит. Но это подмена понятий. Обычного бойца готовят очень мало. Бойца-спасателя — ну, что-то такое. Боевого медика, если два дня поучили, то уже счастье. И война, масштабы агрессии здесь не являются оправданием. На выстраивание системы было девять лет.
— Где и как их готовят?
— Если вы формально спросите, есть ли в бригаде боевые медики, и прошли ли они курсы, ответ будет утвердительным. Но начните изучать детали: сколько часов было израсходовано на обучение обычного бойца? По «натовскому стандарту» обычный должен прослушать семичасовый курс, боец-спасатель — сорокачасовый. Этого не соблюдали почти нигде.
А кто те инструкторы, которые учили?
Сейчас есть множество волонтерских инициатив. Иногда у них очень приличный уровень преподавания. Многие общественные организации берут это на себя и частично компенсируют проблему. Но для ее системного решения нужно для начала признать, что у нас что-то не так с обучением и подготовкой бойцов, бойцов-спасателей, боевых медиков и даже хирургов.
При участии Марьяны Безуглой был создан тренировочный центр. Он провалился. Потому что это некомпетентный и чрезмерно активный человек, который никогда не доводит дела до конца и очень этим вредит. Тренировочный центр в Десне, к которому Безуглая также была причастна, и который начинался довольно оптимистично, к большому сожалению, тоже свернулся. Он не выполнил своей функции, поскольку, собственно, системные изменения, требования по подготовке инструкторов — того, что изменило бы качество и результат оказания помощи, — не были прописаны. Тренировочный центр держался на энтузиазме двух-трех фантастических инструкторов. Один из них — Женя Храпко — погиб в июне 2022 года.
В прошлом году немцы подготовили фантастический курс для хирургов, стоивший сотни тысяч евро. И предложили КМС прислать на обучение 16 хирургов. Ответ был такой: 16 не надо, приедут восемь. Говорят, немцы были шокированы. Хорошо, что на обучение отправили все же 16. Но реальная потребность — 160. Хирурги, поехавшие туда включительно с главным врачом Минобороны, были в восторге.
То, как действительно мало мы учимся и не осознаем это, можно запросто экстраполировать на все общество. Эту потребность не осознают, искренне не понимают те, кто мог бы утвердить решение об обучении. То же — и относительно боевой подготовки.
Но, следует заметить, на то, что мы плохо готовим боевых медиков, есть объективные и субъективные причины.
Относительно субъективных. Во-первых, нам их надо очень много, мы потратили время и не делали этого раньше. У нас мало ресурса, подготавливать надо быстро, и часто на это нет даже 40 часов.
Теперь об объективных. Даже когда обучение проводили американцы и британцы, они делали это с учетом предыдущих конфликтов. Американский стандарт подготовки не учитывал того, что пациент может попасть в больницу через 4–24 часа после ранения. В американской армии это происходит в течение первых тридцати минут. Стандарт предусматривал научить бойца накладывать турникет. Снимать или менять его должны были боевые медики. Так учат во всем мире. И только война в Украине показала, что боец на поле может физически не иметь возможности попасть к боевому медику. Сейчас у нас с этим большая беда.
КМС подготовил, а Залужный уже подписал приказ об изменениях в подготовке и оказании помощи. В США эту проблему также недавно обсуждали на высшем уровне. В скором времени появятся публикации и изменения в программе обучения американской армии.
— Есть ли у вас вопросы по составу аптечки? Какие? Почему состав аптечки до сих пор не изменился? От кого это зависит?
— Начну с первопричин.
Командование медицинских сил — это исполнительный орган при Генштабе. Оно не представлено в правительстве и не имеет никаких полномочий по законодательной или какой-либо другой инициативе относительно формирования политики в военной медицине. Оно лишь выполняет указания Минобороны и Минздрава.
Минобороны и Минздрав из-за отката реформы госслужбы больше не имеют соответствующих директоратов, которые формировали бы политику, осуществляли анализ, писали нормативку и могли бы, в частности, сформировать стандарты аптечек, обучение и обеспечение. То есть политику в сфере военной медицины некому формировать физически.
Из-за своих личностных и компетентностных характеристик, лояльности, усердия и отсутствия собственного видения руководители обоих министерств не имеют желания что-либо менять. Ситуация такая, что и министр обороны, и министр здравоохранения, и командующая КМС, и начальник госпиталя — вообще кто-либо на должности сегодня почему-то воспринимает это как вознаграждение за предыдущие заслуги, как лояльность. И своей задачей видит выполнение указаний и существование в структуре, а не ее изменение.
А роль министров обороны и здравоохранения в государстве — нести изменения. У них есть ресурс для анализа ситуации. Но этого не происходит сейчас. Как следствие, наше общество остается советским квазиобществом, а армия — маленькой Красной, которая не может победить большую Красную армию.
Сегодня перед врачом стоят другие задачи. Не просто выполнить свою работу, а спасти такого раненого, который в России умрет; чтобы боец, оставшийся калекой в России, у нас таким не стал. Надо лечить лучше и спасать больше, чем это делают россияне.
Если такая задача перед врачом не стоит, он не приближает победу. А для этого он должен пересмотреть собственные подходы, начать учиться, наконец выучить английский язык. И для начала это нужно осознать. На каждом этапе. Мы должны внедрять стандарты, организовывать обеспечение. Наши зимние куртки должны быть теплее кацапских. Любой из нас должен выполнять свою часть работы лучше, чем визави по ту сторону фронта. Кем бы ты ни был.
— А что у нас с медобеспечением?
— Одним из первых постановлений Минздрава Ульяны Супрун в 2016 году были изменения в стандарты военной аптечки. Если раньше стандартом был жгут Эсмарха, то новый стандарт дал Минобороны и военным субъектам хозяйствования право закупать натовские аптечки.
Но что делало Минобороны? Вместо того чтобы покупать американские турникеты, оно наполняло аптечки товарами российской «АВ-Фарма», а также ненужными и вредными жгутами «Київгуми». Каждый род войск, каждая бригада покупали, что кому захочется. И здесь нет злого умысла Резникова или Безуглой. Это за откаты делали «маленькие украинцы», отвечавшие за закупки. Подлые, жадные и совершенно аморальные, они закупали все подряд.
Поэтому с 2016 года стандарт есть. Его можно немного усовершенствовать относительно медикаментов, поскольку подходы изменились. Но и сейчас никто не запрещает какой-то бригаде закупить американские фирменные аптечки.
Здесь также есть объективные и субъективные причины. Есть мобилизованный начмед бригады или батальона. Он растерян и еще не понимает, что делать. Ему говорят прийти и получить аптечки. Он получает и подписывает бумаги — ну, что выдали, то выдали. И очень немногие отказывается ставить свою подпись. Для того чтобы в аптечки не попал хлам, конкретный чиновник или начмед должен встать и сказать: «Нет, так не будет». И такие есть. Благодаря таким начмедам, закупщикам и командирам есть хорошо обеспеченные бригады.
— Что с переливанием крови?
— Здесь не все так однозначно. Это огромная и спекулятивная тема. И здесь я буду защищать КМС.
У меня есть несколько вопросов, которыми я могу объяснить свою позицию по крови.
Известно ли нам, сколько тысяч боевых медиков есть на линии столкновения? Известно ли, кто и как готовил их переливать кровь (и готовил ли)? Есть ли у них достаточное количество часов тренировок, умеют ли они определять потребность в переливании крови и делать его правильно, чтобы не убивать кровью (здесь минимальный срок обучения исчисляется неделями)? Дай Бог, чтобы боевой медик в Украине, с его компетенциями и уровнем подготовки, сейчас научился выполнять конверсию турникета.
Ну и последнее: где взять столько крови?
Так что весь этот кровяной шум, к сожалению, больше вредит. И попробуй это скажи. Из-за чрезмерной медийной популярности тех, кто его поднимает, тебя тут же забьют ногами. Но все кадры и заметки в соцсетях об успешном переливании крови раненым, которые я видел, свидетельствуют об очевидных врачебных ошибках, в частности и о ненужных переливаниях.
Но самое плохое то, что кровь не переливают врачи на стабпунктах. Там, где есть холодильник, обогреватель, все компетенции и возможности логистической доставки, кровь переливают в одном из десяти случаев, не больше. И это огромная проблема. Из-за некомпетентности и непонимания врачи этого не делают. Многие мобилизованные врачи никогда в жизни этого не делали, поэтому они боятся. К тому же кровь надо списывать, заполнять кучу бумаг. Проще направить пациента на следующий этап — в госпиталь. И это действительно противно.
— Как происходит эвакуация? Все ли понимают свои роли и задачи? Налажен ли этот маршрут?
— Здесь все намного лучше, чем обычно описывают. На самом деле больше всего в эвакуации меня бесит не столько ее организация (с ней как раз проблем нет), сколько тот факт, что армию обеспечивают автотранспортом по остаточному принципу. Меня всегда вкурвливает, когда на дорогах тыловых городов видишь новые машины, а на войне — закупленные волонтерами, разбитые, с правым рулем. Сегодня мы используем небронированные машины. Хотя на войне в принципе весь транспорт должен быть бронированным. И раненых, согласно стандарту, нужно все же забирать в безопасности.
Это выглядит приблизительно так, будто семья купила новую квартиру и вместо того, чтобы поставить двери, приобрела какие-то дорогие, ненужные игрушки и играла ими. А потом: «Ой-ой! К нам лезет пьяный сосед».
Так, может, все-таки прежде всего разработаем государственный механизм адекватного обеспечения армии?
— Как государство заботится о раненых? Есть ли у нас реабилитация? Если есть, то в каких учреждениях?
— У государства всегда есть желание что-то создать, чтобы перерезать красную ленту. Реабилитационный центр не является исключением. Но реабилитация после нейротравмы — это одна история. После ранений костей, конечностей — совершенно другая. Кроме того, пациенту нужно проходить восстановление ежедневно. То есть реабилитолог, кинезиотерапевт, массажист, врач физической терапии и реабилитации должны быть доступны там, где пациент живет. Раненому надо снова научиться ходить. И он не может ехать во Львов, потому что там перерезали красную ленту и создали супермодный центр суперпротезирования. Хорошо, там ему сделали протез. Но что дальше? В городах и городках, куда вернется ветеран, физически нет людей, которые могли бы заниматься реабилитацией.
Поэтому основная проблема — не создать центр реабилитации, а научить реабилитологов. Нашей новой украинской религией вообще должно стать обучение. И с этим — большая беда. Потому что, как я уже говорил, мы не осознаем нашей потребности учиться. Не понимаем, как далеко мы от той реабилитации, какой она должна была бы быть.
— Что Минздрав и НСЗУ должны были бы сделать для этого?
— Две вещи. Первое — установить требования относительно обучения. И второе — чтобы все это не превращалось в Военно-медицинскую академию, в профанацию обучения и ненужную формальность. Мы должны в течение какого-то времени привязываться к западным системам обучения.
Здесь есть еще такая штука: наши европейские коллеги спрашивают, почему мы отправляем лечиться за границу так мало раненых, а когда отправляем, то почему так поздно. Европейские и американские больницы в Европе, где специально под нас были созданы отделения, стоят пустые. Для бесплатного лечения украинских ветеранов выделяют финансирование, а Украина их не направляет.
— Почему?
— Редчайший случай, когда у меня нет претензий к Минздраву. Министерство сегодня наладило схему отправки за границу, и это довольно просто. Для этого нужно письмо из больницы, где находится пациент, о том, что он нуждается в лечении за границей. Что в голове у начальников госпиталей, я себе не представляю, но таких писем на сегодняшний день намного меньше, чем возможностей Европы принять наших раненых на лечение. Потому что это морока, надо заполнять бумажки. Равнодушие и некомпетентность.
Два слова, которые сегодня должны были бы быть вытатуированы у каждого украинца, — «неравнодушие и компетентность».
— Полностью ли государство оплачивает лечение военнослужащих, получивших минно-взрывные травмы, с ампутациями?
— Этого я не знаю. Все раненые, имеющие отношение к моей части, ухоженные, и речь о копейках не велась. Если такие случаи и встречались, я их не отслеживал.
Знаю, что киевские монстры «Оберіг» и «Добробут» бесплатно оказывают помощь раненым. Второй это афиширует, первый — нет, но там, кажется, даже открыто целое отделение для тяжелой черепно-мозговой травмы. И все, скажем так, медийные случаи — слепых раненых, без рук, без ног, то есть самых тяжелых сейчас забирает «Оберіг». В целом мое впечатление, что частники ведут себя достаточно благородно, и меня это очень трогает.
— 11 млрд грн неиспользованных средств вернули в прошлом году в бюджет. Куда, по вашему мнению, должны были бы перенаправить эти средства Минздрав и НСЗУ?
— Конечно же, на армию прежде всего. Двор начинается с забора, и безопасность — на первом месте.
Не знаю, можно ли об этом говорить, но мы воюем за счет налогоплательщиков США. Да, Будапештский меморандум, международная поддержка. Да, беспрецедентная ситуация атаки ядерного государства на неядерную. И мы словно ожидаем, что весь прогрессивный мир нам будет помогать. Но что мы сами делаем, чтобы стать сильнее?
Сейчас мы ведем себя, как ребенок, которому действительно очень больно, он плачет, кричит, и ему помогают взрослые. Как страна мы не проявляем способности пересмотреть свои заработки и затраты, налоговую политику, государственную поддержку.
Почему должен терпеть солдат и пехотинец, а не человек в тылу? Если воюет только армия, мы проиграем. Наша свобода — это наше постоянное вовлечение в организацию своей жизни.
— Здесь уместно поговорить о ротации. Насколько хватает запаса выносливости? Где брать замену и пополнение? Достаточно ли человеческих и медицинских ресурсов?
— Я скажу непопулярное: медики должны заткнуться и не плакать. Пехоте хуже. Конечно, находясь в зоне боевых действий, медик рискует, что в него попадут. Да, среди моих коллег много погибших. Не говоря уже о боевых медиках, на которых и бремя, и опасность самые большие. Спасение жизни раненого от них, кстати, зависит больше, чем от хирурга (см. рисунок. — Авт). Самая главная роль здесь — у военного: если он оказался рядом, наложил турникет и остановил кровотечение, то спас раненого. На втором месте — боевой медик. Эти двое людей отвечают за 90% всех случаев выживания.
От мастерства хирурга зависят считанные проценты. Сколько бы я ни оперировал пациентов, как бы сильно ни уставал, я оперирую их только потому, что их ко мне довезли живыми. А произошло это благодаря работе боевых медиков. Поэтому они — мои герои.
Врач на войне — сложная и рискованная работа. Но работа. Воюет пехота. Поэтому никаких поблажек нам — и относительно обучения, и относительно работы, и относительно ротаций — быть не должно. У нас есть резерв работать на порядок эффективнее, больше, лучше. Мы должны больше учиться. Мы недорабатываем.
— Если все так плохо, то благодаря чему все держится? Почему не развалилось?
— Благодаря солдатам и офицерам, которые добросовестно выполняют свою работу. Молча, без лишнего шума и показухи. И даже в КМС и Минздраве есть трудяги, маленькие и незаметные, которые не становятся героями репортажей, но качественно работают. Благодаря боевым медикам, вытягивающим раненых из самого ада. Мы не знаем их имен. Но Украина до сих пор стоит благодаря таким солдатам и офицерам, выполняющим свою работу немного лучше, чем мы от них это ожидали.
Недавно мне пришлось оперировать пациента с очень тяжелым, угрожающим ранением сосуда на конечности. И уже в операционной, сняв повязку, наложенную боевым медиком, я увидел, насколько качественно было остановлено кровотечение тампонированием. Боевой медик сориентировался и сделал все безупречно. Я позвонил в бригаду и попросил передать мой восторг. Он спас этого пациента, не я. Мне было просто в операционной.
Обычно мы обращаем внимание на сложные случаи, переживаем из-за потерь. Акцентируем внимание на недостатках. Вместе с тем, несмотря на адскую работу, я часто слышу, что боевые медики выезжают за границу и учатся. И это комплимент и боевым медикам, и системе. Это вызывает уважение и радость.
В медицине ВСУ появились точки роста. Полтора года назад так не было. Не отбрасывая всей моей критики, всех недостатков, следует вспомнить и о позитиве. И о суперпрофессиональных врачах на стабиках, и о незаметной, но крайне важной работе офицеров КМС, занимающихся эвакуацией. Эта система — пути, передачи данных о раненом, взаимодействие с гражданскими учреждениями и отслеживание судьбы раненого на всех этапах — за полтора год налажена с нуля. Ради возможности анализировать, просить помощи и как-то адаптироваться к вызовам, которые несет война.
Возможно, не без ошибок и трудностей, но скелет системы, который можно совершенствовать, создан. Она не посыпалась, устояла. В целом я бы положительно воспринимал и огласку медицинской темы в обществе, и критику, и ссоры. Это хорошо, потому что помогает совершенствовать систему. Мы победим тогда, когда среди украинцев не останется людей небезразличных. Чем больше украинцев так или иначе приобщается к помощи армии, решению проблем и ВСУ, и медицинских сил в частности, тем больше это приближает нас к победе. Но для этого нужно осознавать наши недостатки, обсуждать и искать пути усовершенствования компетенций и знаний.
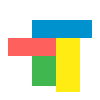
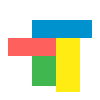
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Fadmin%2F0fe807fc-285b-4ebe-88ad-2a2c0afb1ab7.jpeg)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F51ba82210532a9765972130eb2030487.png)
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fdee5da00cc177d9d4eece6ffdae252fe.jpg)